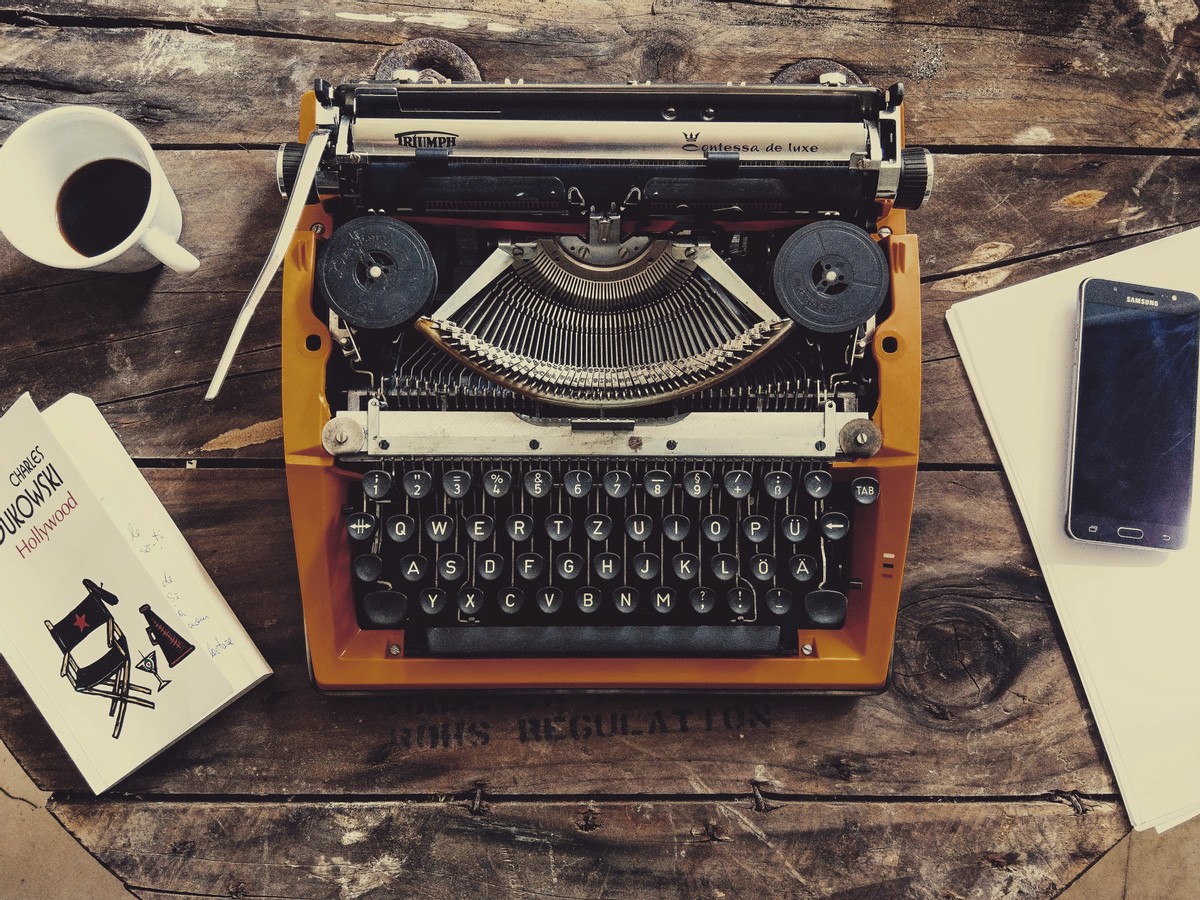
В Перми, где река Кама извивается, как запятая, вокруг города, Татьяна преподавала русский язык с точностью часовщика. Литература с её запутанными метафорами и эмоциональными излишествами всегда раздражала её, но она любила сюжеты и доброту, которым литература учит человека. Хотя Татьяна предпочитала чистую логику синтаксиса и определённость правил, когда наступила весна, растопившая морозы, её сбережения иссякли: её ученики сдали экзамены и ушли на каникулы. Она неохотно согласилась заниматься с Алексеем, 38-летним мужчиной, который мечтал писать романы. Алексей каждую неделю подключался из Санкт-Петербурга, его окошечко в Скайпе показывало освещённый солнцем стол, заваленный потрёпанными бумажными книгами, чьи корешки трещали, как сухая земля. За ним раскрывались крыши его города, мозаика из мятно-зелёных медных куполов, лососёво-розовых неоклассических фасадов и редких вспышек позолоты, упрямо цепляющейся за церковные купола. Дождь стекал по его окну, искажая вид кованых балконов и тонкого шпиля Адмиралтейства, пронзающего серое небо. На нём была аккуратная тёмно-синяя поло, застёгнутая до горла, чёрный шёлковый галстук, завязанный с точностью человека, который гладит даже носки, и брюки с такими острыми стрелками, что ими можно было нарезать хлеб. В свои тридцать восемь он всё ещё сидел, как школьник, ожидающий похвалы — спина прямая, пальцы сплетены, глаза яркие за очками в проволочной оправе. Он показывал на экране PDF-файл «Евгения Онегина», поля которого пестрели цифровыми аннотациями неоново-жёлтого и зелёного цветов. «Послушайте этот ритм», — говорил он, наклоняясь вперёд, пока веб-камера не ловила серебристые нити в его иначе иссиня-чёрных волосах. Его голос смягчался, когда он декламировал строки Пушкина о неразделённой любви, кончики пальцев отбивая ритм на столе. Курсор Татьяны прорезал его документ, красные комментарии расцветали, как раны. «Неуклюжая фраза», — печатала она, выделяя предложение, где берёзовые леса «плакали алмазами инея в арифметическом отчаянии». Под гул радиатора в её пермской квартире её ручка щёлкала, как тикающая бомба. «Это не математика», — резко сказала она. «Нельзя просто добавлять прилагательные, пока сумма не станет правильной». Галстук Алексея сдвинулся, когда он сглотнул. Голубь позади него приземлился на облупившийся подоконник, склонив голову к своему отражению. «Но лес — это метафора общественного долга!» — возразил он, открывая боковую панель с блок-схемой под названием «Символическая лесоводство: Таксономический подход». Татьяна отключила звук, чтобы закатить глаза, хотя и не злобно. Её ученики часто принимали её строгость за суровость, не понимая, что это был скальпель, которым она вскрывала их потенциал. Когда она включила звук, её тон смягчился, как будто она вспомнила домашние пирожки, которые оставляла на пороге соседей в тяжёлые русские зимы. «Оставьте блок-схемы для ваших аудиторских отчётов», — сказала она, постукивая пальцами по столу. «Проза — это не бухгалтерская книга. Нельзя сбалансировать метафору». Алексей старался. Его сюжеты блуждали, как испорченный код; его персонажи застывали в уравнениях, их диалоги звенели, как эхо прерванного звонка в Скайпе. И всё же каждую среду Алексей без опоздания подключался, упрямый, как бесконечная десятичная дробь, его платежи приходили в виде хрустящих рублёвых купюр, вложенных в конверты, пахнущие петербургскими типографиями и ночным отчаянием. Через пиксели экрана Татьяна заметила, как его взгляд задерживался на её диаграммах причастий — её курсор обводил фразы цифровыми красными чернилами — как будто грамматику можно было обратить в теоремы. За ним мятно-зелёные крыши его города размывались в акварельное пятно, дождь стекал по окну, как неверно поставленная точка с запятой. **** Одним унылым днём, когда Татьяна просматривала последние записи Алексея, она наткнулась на главу, которая должна была изображать драматическую конфронтацию между главным героем, Джонатаном, и Кларой. Вместо этого это было похоже на неудачную лекцию по математике, полную неуклюжих формул и ошибочных теорем. «Глава 7: Исчисление связи. В маленьком городке Элдридж, где солнце всходило с постоянной скоростью 1,5 градуса в час, происходило странное явление. Горожане, сталкиваясь с межличностными конфликтами, прибегали к математическим формулам вместо диалогов. Это приводило к серии событий, которые можно было описать только как статистическую аномалию. Во вторник утром, ровно в 9:00, Клара и Джонатан оказались в местном кафе, где средняя концентрация кофеина составляла 75 мг на чашку. Клара начала разговор с теоремы. Теорема 1: Если два человека делят кофе, то вероятность конфликта обратно пропорциональна количеству добавленного сахара. «Следовательно, — заявила Клара, помешивая кофе ложкой, — если мы обозначим S как сахар, а C как конфликт, мы можем выразить это как: C = k/S, где k — константа, равная 10». Джонатан поправил очки, линзы которых отражали флуоресцентные лампы над головой. «Но это слишком упрощённо. Необходимо также учитывать переменную эмоциональной вовлечённости. Пусть E будет эмоциональной вовлечённостью». Клара нахмурилась. «Тогда у нас новое уравнение: C = k/(S + E). Это математически имеет смысл, но усложняет наше взаимодействие». «Сложность — это суть человеческой связи, — ответил Джонатан, рисуя на салфетке. — Мы также должны учитывать переменную времени, T. Таким образом, пересмотренное уравнение становится: C = k/(S + E * T)». Клара покачала головой. «Это не соответствует сути нашего обсуждения. Эмоциональный вес нельзя просто измерить количественно». Следствие 1: Если эмоциональный вес превышает порог, то коммуникация терпит неудачу. «Именно, — сказал Джонатан, — значит, мы должны найти критическую точку, где E стремится к бесконечности. Следовательно, если E ; ;, то C ; ;. Здесь и возникают споры». Клара вздохнула, её терпение иссякало. «Но это сухой подход. Мы не просто переменные в уравнении». «Но мы таковы, — настаивал Джонатан. — Нашу жизнь можно выразить в виде функций. Например, пусть F будет дружбой. Если F = (C + E) / T, то мы можем вывести функцию наших отношений». Клара посмотрела на него с недоверием. «Так отношения не работают! Нельзя просто применять исчисление к человеческим взаимодействиям». «Почему нет? — возразил Джонатан. — Рассмотрим функцию счастья, H. Если H = (F * T) / D, где D — расстояние между нами, то мы можем измерить нашу связь количественно». Клара раздражённо развела руками. «Ты превращаешь наш разговор в математическое упражнение! Это не способ разрешить наши разногласия». Теорема 2: Если разговор сводится к математическим уравнениям, то разрешение невозможно. «Тогда мы должны упростить, — сказал Джонатан, яростно записывая. — Предположим, что D = 0 для оптимальной связи. Следовательно, H = (F * T) / 0, что не определено указывает на то, что истинная связь — это асимптота, которой мы никогда не достигнем». «Ваша логика ошибочна, — сухо заявила Клара. — Асимптота предполагает, что мы можем приближаться, но никогда не достигнем. Это плохое представление о дружбе». Джонатан замолчал, размышляя над её словами. «Возможно, нам нужна новая переменная, учитывающая спонтанность, S. Если мы добавим S к нашим уравнениям, то сможем создать новую функцию: F = (C + E + S) / T». Клара снова вздохнула, понимая бессмысленность их обсуждения. «Это не путь к пониманию. Нам нужно взаимодействовать, а не вычислять». Заключение: Если разговор остаётся в сфере математики, то потенциал для подлинной связи значительно уменьшается. Они сидели в тишине, вес их невысказанных слов висел в воздухе, напоминая, что некоторые вещи нельзя измерить, сколько бы теорем ни применялось. Кафе вокруг них кипело жизнью, но они оставались запертые в своём математическом лабиринте, каждое уравнение уводило их всё дальше от выхода». Вскоре началось онлайн занятие, и лицо Татьяны Николаевны заполнило экран компьютера Алексея, её выражение было смесью терпения и лёгкого раздражения. Очки ловили блик настольной лампы, а за ней книжная полка прогибалась под тяжестью Толстого, Достоевского, Зощенко и Чехова — её литературных святых. «Алексей, — начала она, её голос слегка потрескивал через соединение Скайп — так романы не пишутся. Толстой, Достоевский, даже Зощенко или Чехов. Вы понимаете?» Она сделала паузу, наклонившись ближе к камере, её лицо на мгновение распалось на пиксели. «Эти великие писатели не гнались за грандиозными теориями или абстрактными уравнениями. Они писали о жизни — реальной, запутанной, смешной жизни. О человеке, который спотыкается о свои собственные сапоги. О женщине, которая спорит с продавцом из-за цены на огурцы. О паре, которая пытается разделить зонтик под дождём и терпит неудачу. Понимаете?» Лицо Алексея, маленький квадратик в углу экрана, напряглось. Он открыл рот, чтобы ответить, но Татьяна Николаевна подняла руку, её серебряный браслет звякнул о микрофон. «Нет, нет, не защищайтесь. Послушайте! У вас есть талант, Алексей, но вы пытаетесь превратить жизнь в формулу. Жизнь — это не формула. Это... это...» Она жестикулировала, ища нужное слово, затем указала на чайник, который был виден на краю кадра. «Это чайник, который свистит в непредсказуемый момент. Это кот, который опрокидывает стакан воды на вашу единственную чистую рубашку. Это сосед, который поёт фальшиво в душе не чует о том, кто его слышит. Это то, что делает нас людьми. Это то, что заставляет нас смеяться, плакать и чувствовать». Она откинулась на спинку стула, который громко скрипнул, и вздохнула. «Итак, Алексей, я спрашиваю вас: разве вы не хотите писать, как они? Запечатлеть маленькие, смешные, повседневные моменты, которые делают жизнь стоящей? Начните с малого. Начните с реального. Пусть ваши персонажи живут, а не вычисляют». Экран мигнул, когда Алексей медленно кивнул, его лицо выражало смесь смирения и решимости. За Татьяной Николаевной книги на полке, казалось, наклонялись вперёд, как будто призывая его слушать. «Хорошо, — сказала она, её тон смягчился. — Теперь перепишите это. И в следующий раз давайте увидим меньше исчисления и больше... жизни». Она потянулась к чайнику, экран дрогнул, когда она сдвинулась, и добавила с лёгкой улыбкой: «И, возможно, котика. Все любят котиков». Звонок завершился, и Алексей остался смотреть на пустой документ, курсор мигал, как сердцебиение. Где-то вдалеке через стену доносилось фальшивое пение соседа, и впервые он улыбнулся. *** Прошёл месяц, и Алексей оказался в море слов, которые отказывались формировать острова, не говоря уже о континентах. Он усердно погрузился в произведения Зощенко и Чехова, их рассказы лежали на его столе, как немые могилы. Он читал о мужчинах, которые спорили со своими шляпами, о женщинах, которые плакали над разбитыми чайниками, и о парах, которые ссорились из-за того, как правильно чистить картошку. Каждый рассказ был шедевром повседневности, симфонией маленьких абсурдов, которые каким-то образом резонировали с бесконечностью. Но чем больше он читал, тем больше чувствовал себя мошенником. Он пытался написать о человеке, который не мог завязать шнурки, но это выходило плоско. Он пробовал описать сцену, где женщина спорила с продавцом из-за цены на капусту, но это казалось натянутым. Он даже набросал диалог между двумя соседями, жалующимися на протекающий кран, но это звучало как математическая задача, замаскированная под разговор. «Почему у меня не получается?» — пробормотал он однажды вечером, глядя на экран ноутбука, как будто тот мог дать ответы. Курсор мигал в ответ, равнодушно. Он думал о совете Татьяны Николаевны: «Начните с малого. Начните с реального.» Но что это вообще значит? Он не был Зощенко, находившим юмор в хаосе советской бюрократии. Он не был Чеховым, улавливающим тихое отчаяние провинциальной жизни. Он был просто Алексеем, 38-летним мужчиной, сидящим в тускло освещённой квартире и пытающимся превратить свою растерянность в искусство. *** Одним прекрасным июньским днём Татьяна Николаевна провела увлекательный урок литературы о фразеологизмах, вплетая в него увлекательные истории происхождения слов, таких как медведь, земляника и овчарка. Её объяснения оживляли историю и эволюцию языка, захватывая внимание Алексея. Алексей слушал внимательно, полностью погружённый в урок. Ему хотелось внести свой вклад, поделиться своими мыслями или задать вопрос, но он сдерживался, не уверенный, что его понимание достаточно для чего-то ценного. Хотя он оставался молчаливым, урок оставил глубокое впечатление, пробудив в нём любопытство к изучению тонкостей русского языка. Внезапно их онлайн-урок принял неожиданный политический поворот. Татьяна Николаевна, её лицо освещённое светом экрана, начала критиковать российское правительство, её голос повышался от разочарования, когда она осуждала поступки действующих властей. Она не сдерживалась, даже направляя резкие, страстные замечания в адрес депутатов. Её тон становился всё более горячим, и виртуальный класс, когда-то наполненный спокойным изучением языка, теперь гудел от напряжения. «Эти депутаты, — сказала она с горечью, — они просто грабители в костюмчиках. Они крадут у народа, наполняют свои карманы и оставляют крохи для остальных. И ради чего? Чтобы сохранить свою власть, свои привилегии? Это позор!». Алексей, обычно сдержанный, включил микрофон и осторожно сказал: «Но Татьяна Николаевна, разве это не опасно — говорить так открыто? Что, если кто-то услышит?» Татьяна сделала паузу, её выражение слегка смягчилось, когда она посмотрела в камеру. «Возможно, — ответила она, — но молчание может быть не менее опасным, Алексей. Если мы не будем говорить, кто тогда будет? Эти люди — эти так называемые лидеры — они не просто воры. Они убийцы. Они отправляют молодых людей умирать в войнах, в которые они не верят, они позволяют больницам разрушаться, а школам — недополучать финансирование. И ради чего? Ради собственных карманов Это чудовищно». Брови Алексея нахмурились, когда он обдумывал её слова. «Я понимаю, — медленно сказал он, — но что мы можем сделать? Мы просто ученики. Кажется, что мы бессильны против всего этого». Татьяна наклонилась ближе к экрану, её взгляд был твёрдым и интенсивным. «Начните с изучения, Алексей. Начните с вопросов. Знание — это первый шаг. Эти люди — эти грабители, эти убийцы — они пользуются нашим молчанием. Они процветают на нём. Но если мы будем говорить, если мы откажемся позволять им переписывать правду, то мы отнимем у них власть. Вам не нужно штурмовать Кремль, чтобы что-то изменить. Даже маленькие действия могут превратиться во что-то большее». Алексей кивнул, хотя его выражение оставалось озабоченным. «Просто трудно понять, с чего начать, — признался он. — Всё это кажется таким подавляющим». Голос Татьяны смягчился, хотя её решимость не поколебалась. «Я знаю, что это так. Но помните, изменения начинаются с осознания. Задавайте вопросы, ищите правду и не позволяйте никому говорить, что ваш голос не имеет значения. Потому что он имеет. Если мы все будем молчать, они уже победили». Разговор затих в тишине виртуального класса, вес слов Татьяны висел в воздухе. Алексей откинулся на спинку стула, глубоко задумавшись, экран отбрасывал слабый свет на его лицо. Урок принял поворот, которого никто из них не ожидал, оставив Алексея с большим количеством вопросов, чем ответов, и растущим осознанием мира за пределами экрана его компьютера. Слова Татьяны, резкие и бескомпромиссные, эхом звучали в его голове ещё долго после окончания урока. Так же внезапно, как урок Татьяны Николаевны превратился в яростную критику российского правительства, она вернулась к литературе с той же интенсивностью. Переход был настолько резким, что Алексей на мгновение оцепенел, как будто политический выпад был кратким, бурным вмешательство в иначе спокойном уроке. «Но вернёмся к красоте языка, — сказала она, её тон теперь стал размеренным и академичным, как будто предыдущие страстные замечания никогда не произносились. — Изучение происхождения слов, например, — это окно в душу культуры. Возьмём слово мороз — оно происходит от того же корня, что и мёрзлый. Чувствуете холод в самом звуке? Древние славяне жили в мире, где зима была силой, с которой нужно было считаться, и их язык отражает это. Каждое слово несёт в себе вес их опыта». Алексей, всё ещё переваривая её предыдущие слова, колебался, прежде чем включить микрофон. «Так вот почему так много русских слов кажутся такими... яркими? Потому что они связаны с тем, как люди жили?» «Именно, — ответила Татьяна, её глаза загорелись. — Язык — это зеркало истории, Алексей. Возьмём ноябрь — он происходит от старославянского слова, обозначающего «девятый месяц», отражая древний календарь, где год начинался в марте. Хотя сейчас это одиннадцатый месяц, название сохраняет этот старый способ мышления. А вот капуста — считается, что оно происходит от латинского caput, означающего «голова», из-за её круглой формы. Слова путешествуют, Алексей, через границы и время, собирая истории по пути». Она сделала паузу, её взгляд слегка отклонился, как будто вспоминая что-то далёкое. «И всё же, — добавила она, её голос смягчился, — язык — это не просто реликт прошлого. Он жив, постоянно формируется настоящим. Так же, как мы формируем его, он формирует нас. Слова, которые мы выбираем, истории, которые мы рассказываем, — они имеют силу. Они могут вдохновлять, они могут обманывать, они могут даже разрушать». Алексей медленно кивнул, хотя он не мог избавиться от ощущения, что её последнее замечание несло двойной смысл, тонкий отголосок её предыдущей критики. Тем не менее, он не стал настаивать. Вместо этого он спросил: «Так вот почему литература так важна? Потому что она показывает, как можно использовать язык?» Татьяна улыбнулась, проблеск тепла пробился сквозь её прежнюю напряжённость. «Именно, Алексей. Литература — это искусство владения словами. Она показывает нам их красоту, их силу, их опасность. Возьмём квартиру — она происходит от итальянского quartiere, означающего «квартал» или «район». Это напоминание о том, как языки заимствуют друг у друга, как культуры переплетаются. И именно поэтому мы изучаем её. Не только чтобы понять прошлое, но и чтобы ориентироваться в настоящем — и, возможно, формировать будущее». С этим она плавно перешла к обсуждению литературных приёмов, её голос снова стал ровным и сосредоточенным. Но для Алексея урок приобрёл новое измерение. Слова, которые она говорила о литературе, теперь казались несущими более глубокий вес, тонкий подтекст предыдущего разговора. Слушая её, он не мог не задаться вопросом, не было ли это возвращение к происхождению слов и литературным приёмам способом Татьяны Николаевны сказать, что даже перед лицом политических потрясений сила языка — и историй, которые он рассказывает, — остаётся. Когда Татьяна Николаевна прощалась в тот день, с её губ сорвалась фраза: «Пойду сыграю в шахматишки». Это было мимолётное замечание, почти незначительное, но оно застряло в голове Алексея ещё на долго после того, как экран погас. Он не мог объяснить почему, но что-то в том, как она это сказала — спокойно, обдуманно, почти стратегически — казалось ему значимым. *** На следующем уроке литературы Алексей попросил Татьяну Николаевну изучить более сложное произведение, чем произведения Пушкина, Зощенко, Чехова или Бунина. Он предложил прочитать вместе «Мёртвые души», надеясь почерпнуть вдохновение у Николая Гоголя. Когда Алексей читал первую главу, Татьяна указывала на незнакомые выражения, и таким образом они учились вместе. «Мёртвые души» стали плодотворной почвой для их обсуждений, так как роман известен своей острой критикой российского общества XIX века. Через главного героя, Чичикова, и его схему покупки «мёртвых душ» (крепостных, которые умерли, но всё ещё числятся как собственность), Гоголь раскрывает моральное разложение и бюрократическую коррупцию того времени. Смесь юмора, иронии и пафоса в романе позволила Алексею и Татьяне исследовать темы, такие как человеческая жадность, общественное лицемерие и поиск идентичности в быстро меняющемся мире. Использование Гоголем ярких характеристик и богатых описаний также дало Алексею и Татьяне мастер-класс по повествовательной технике. Они восхищались тем, как Гоголь мог одновременно вызывать смех и дискомфорт, делая «Мёртвые души» не только литературной классикой, но и глубокой социальной критикой, которая остаётся актуальной и по сей день». Когда Татьяна объясняла персонажей «Мёртвых душ», Алексей не мог избавиться от мысли, что Татьяна Николаевна пошла «играть в шахматишки» прошлой ночью. Ему хотелось спросить её о шахматах, но момент никогда не был подходящим. Разрываясь между желанием углубиться в литературный мир Гоголя и стремлением бросить вызов Татьяне Николаевне за шахматной доской, Алексей чувствовал странную смесь увлечённости и разочарования. Когда они закончили читать первую главу, Алексей спросил: «Что вы сейчас будете делать?» «Сыграю в шахматишки, а потом лягу спать. У нас уже довольно поздно». «О, я тоже играю в шахматы, Татьяна Николаевна». «Это замечательно!» «Хотите сыграть вместе?» «Ну, Алексей, я не знаю, как...» «Давайте я Вас научу». Алексей оказался чемпионом по шахматам, который несколько лет играл на профессиональном уровне. Его мастерство было очевидно в том, как он двигал фигуры, каждый ход был рассчитан и обдуман. Заинтересованная его навыками, Татьяна с радостью приняла его предложение научить её игре. «Хорошо, Татьяна Николаевна, — сказал Алексей, расставляя фигуры. — Давайте начнём с основ. Вы знаете, как ходят фигуры?» Татьяна покачала головой, игривая улыбка на её губах. «Не совсем! Я только знаю, что ферзь силён, а пешки... ну, они просто пешки». Алексей рассмеялся. «Это хорошее начало! Ферзь действительно силён, но не недооценивайте пешек. Они сами могут стать ферзями, если дойдут до другого конца доски. Это как продвижение пешки!» «Что? Правда? Звучит как магия!» — воскликнула Татьяна, её глаза загорелись от восторга. По мере того как их уроки продвигались, то, что начиналось как простое обучение, вскоре превратилось во что-то гораздо более глубокое. Однажды днём, после особенно напряжённой партии, Татьяна откинулась на спинку стула, обдумывая свой следующий ход. «Алексей, вы думаете, шахматы похожи на писательство?» — спросила она, её брови нахмурились в раздумье. «Абсолютно, — ответил он, двигая коня с точностью. — Оба требуют стратегии и предвидения. В шахматах вы должны предвидеть ходы противника, так же как писатель предвидит, как читатели отреагируют на поворот сюжета. Всё это — создание нарратива». Татьяна кивнула. «Значит, если я буду думать о своих ходах как о сюжетных точках в истории, я могу создать нарратив на доске?» «Именно! — улыбнулся Алексей. — Каждая игра рассказывает историю. Дебют — это введение, миттельшпиль — это где разворачивается конфликт, а эндшпиль — это развязка. И помните, контроль центра — это ключ в дебюте». «Это гениально! — сказала она, её переполнял энтузиазм. — Я попробую вплести историю в следующую партию. Но что, если я сделаю ошибку?» «Ах, ошибки — это просто возможности для роста, — успокоил он её. — Каждый великий писатель сталкивался с критикой, так же как каждый шахматист допускающий ошибки. Это то, как вы учитесь. Так же как в пате, иногда нужно принять то, что не каждая партия закончится победой». С каждым уроком Татьяна начала видеть доску не просто как поле битвы фигур, но как холст для творчества. Она начала применять стратегии, которые Алексей предлагал, смешивая их с собственным воображением. «Давайте сегодня рассмотрим новый дебют, — предложил Алексей, расставляя фигуры. — Как насчёт Руи Лопеса? Это классика. Он приводит к богатым тактическим и стратегическим возможностям». Татьяна улыбнулась. «Идеально! Как классический роман. Я готова создать свой шедевр! Но что, если я окажусь в цугцванге?» «Хороший вопрос! В этом случае вам нужно будет мыслить творчески и искать способы перевернуть игру, — ответил Алексей. — Помните, каждая позиция — это история, ожидающая своего рассказа!» Голова Татьяны взрывалась от этого нового взгляда на шахматы. Сложные стратегии, красота дебютов и азарт эндшпиля захватили её так, как она не ожидала. Каждый урок с Алексеем открывал ей глаза на мир, где каждый ход был мазком кисти на холсте, и она с нетерпением ждала, чтобы узнать что-то новое. Однако она не ожидала, что попадёт в эту зависимость, называемую «шахматной лихорадкой». Это было как будто фигуры наложили на неё чары, затягивая её всё глубже в свой мир. Она начала видеть тактические комбинации во сне и представлять доску в уме даже во время уроков литературы.
Это дубликат, наверное, его стоит удалить.
Я не могу удалить. Я хотел сохранить оригинальный формат, но сайт два раза отправил вместо.